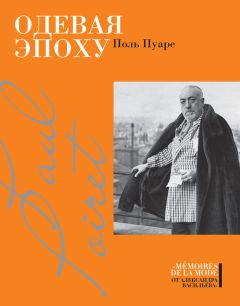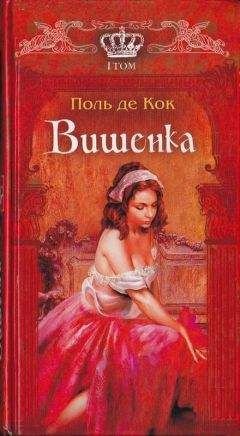Поль Виллемс - Дворец пустоты [повесть и рассказы]
Не скрою, я был в восторге. Лес, снег, огромный красный ковер… Я воображал себя архимандритом, который на ковре-самолете отправился на Северный полюс инспектировать свои владения и приземлился на отдых, намереваясь перекусить, а пока что прилег на свое архимандритское ложе. Вокруг меня, само собой, стояли ели. Они были похожи на монахов в белых капюшонах, пришедших подивиться на неслыханную роскошь своего прелата.
И тишина. Тишина. В необъятном соборе северного леса не звучит «алилуйя». Не разносится запах ладана. Все неподвижно. Воздух смерзается в огромные кубы черного гагата.
Вскоре мои восторги поутихли, превратились в спокойную радость и ожидание чего-то. В душе воцарился покой, готовый вобрать в себя безмолвие ночи.
Впервые в жизни я смотрел на звезды. Названий я не знал и потому стал давать им имена моих любимых поэтов: Аполлинер, Дюбийяр, Макс Жакоб, Поль Нёхёйс, Ли-Чжу (он начертил мне однажды стих в форме белого змея), Макс Эльскамп, Хэвенит… Самую яркую звезду, стоявшую в зените (вероятно, это была Полярная), я назвал твоим именем, Луи Верне,[5] засыпая, мурлыкал себе под нос «Поэмы ночи».
— Можно? — услышал я голос нерастопимой купины и лесного мха. Я открыл глаза и не мог сдержать улыбку: в ногах моей кровати стояла графиня Казаала. Не дожидаясь ответа, она откинула шкуры и легла подле меня.
— Муж отправился на медведя, — сообщила она.
* * *Графиня знала множество прелестных секретов.
Когда с секретами было покончено, мы стали пить аквавит, и я прочел ей стихотворение Луи Верне:
Ночью все волки розовы
Они тайны хранят огневые.
Днем солнце огнедышит грозное
И волки опять голубые.
— Только у нас солнце не огнедышит, — сказала она. — И даже звезд уже не видать. Посмотрите, Аполлинера и Дюбийяра затянуло облаками. А волки у нас белые. Сейчас снег пойдет. Давайте откроем снеговой зонт.
Она протянула мне огромный зонт из натурального монгольского шелка с прожектором на куполе. Мы стали смотреть, как в лучах прожектора бесшумно падают с неба снежинки. Деловито и бесхитростно они нагромождали свои белые невесомые конструкции. Все происходило очень просто, без напыщенности, без экзальтации, не оставляя ни малейшего сомнения в бессмысленности всего происходящего, — так, точно никогда не случится оттепели и все эти чертоги никогда не растают.
И турецкий ковер, и медвежьи шкуры — все пропало под белым покровом. Даже воздух стал белым. Даже сама тишина. Графиня прильнула ко мне, а снежные хлопья все сыпались и сыпались. От этого непрекращающегося скольжения сверху вниз у меня голова пошла кругом. И уже казалось, что снежные хлопья висят в воздухе, а мы вместе с кроватью взмываем в небо.
— Летим, — шептала графиня.
* * *Вот так и случилось, что у финнов в Тамаландии я летал по небу. Правда, до золотых ворот мы не долетели, потому что неожиданно госпожа Казаала сказала:
— Нам пора. Согласно обычаю, мы должны быть дома до возвращения мужа с медвежьей охоты.
ЧИРИПИШ[6]
Находясь в Софии, я дожидался результата моих переговоров с министерством экономики. Чтобы развеять скуку, я свел знакомство с Гектором Маршалом, профессором-этнологом одного немецкого университета. Это был довольно своеобразный ученый, предпочитавший живые контакты с современниками копанию в первоисточниках. «Не люблю я аборигенов, — говорил он, — зато люблю просто жителей».
Душа Гектора напоминала журчащий фонтан, и его гомеровское имя совсем ему не подходило.
Я сопровождал его в этнографический музей Софии, где он разыскивал документы, связанные с остатками дионисийского культа. Гектор показал мне любопытные фотографии: фигуры, закутанные в козлиные шкуры и увешанные бубенчиками, со свирепой маской на лице, приплясывая, входят в деревню. Это был праздник весны, который в горах Родопи, на границе с Грецией, отмечают с началом таянья снега. В софийском музее была довольно большая коллекция дионисийских масок, представлявших собой огромные страшные личины. На старых масках Гектор показал мне своего рода ex-voto, благодарственные изображения Девы Марии, святого Кирилла или героев-гайдуков, сражавшихся против турок. На современных же масках красовались фотографии Маркса, Ленина, Сталина и Димитрова.
— Это самый верный знак превращения человека в героя, — заметил Гектор. — Я называю их ex-voto, хотя на самом деле это другое. Настоящие ex-voto — своего рода приношения. А эти портреты приклеивают к маскам с целью присвоить себе силу и власть героя. Тут скорее стремление к свету, своего рода эпифания, богоявление, смысл которого нами, на Западе, утрачен. Посмотрите на медальон с Марксом: во какая бородища, лоб высоченный — как из него не сотворить миф? Ну прямо Зевс в пиджаке!
Я не мог удержаться от смеха.
— В сущности, это каннибализм, — продолжал Гектор. — Людоеды съедают половой член своего врага, чтобы мощь побежденного перешла к победителю.
* * *Вечером в отеле, за бутылкой сливянки, мы продолжали нашу беседу.
— Существуют две разновидности героев, — заметил мой собеседник. — Герои мира живых — такие, например, как Геракл или Ленин, — и герои загробного мира. Последних мало, но они действительно великие. А самый великий из всех — Орфей, указывающий нам путь в темноте. Он устроил для нас что-то вроде репетиции того, что мы называем уходом. А потом вернулся рассказать. Это я точно знаю — один раз я уже умирал.
Я поглядел на него с любопытством. Он продолжал:
— Герои, бывает, говорят с нами во сне. А сны — это те же генеральные репетиции, их главная функция — нас подготовить. Однажды ночью мне приснилось, что я где-то на берегу Северного моря и гуляю по пляжу, по песку. Тут вдруг корабль. Огромный! Корпус вздымается, точно железная туча, трубы и мачты переплетаются где-то в поднебесье. Еще выше, над ними, реют флаги, торчат радары, нацеленные в пустоту. И вот этот корабль, вместо того чтобы плыть по воде, врезается в берег, разбрасывая вокруг песчаные валы. С кормы мне кто-то машет. Смотрю — а это мой шурин, который погиб на войне лет десять назад. И пальцем указывает мне на шлюпку, что приторочена к корме. Тут я понимаю, что он показывает мне потайной вход — вход в другой мир. Надо только прыгнуть в шлюпку — и уплывешь за горизонт. В сущности, мой шурин выступал в роли Орфея. А корабль — это смерть.
Смерть, конечно, вовсе не корабль… — продолжал Гектор, — и мой сон — не символ, я прекрасно это понимаю… И все же, в определенном смысле, я знаю теперь, как это произойдет.
Да, забыл сказать: этот сон приснился мне, когда я отдыхал на море, в Остенде. Я проснулся и никак не мог прийти в себя. Окно я оставил открытым. Был отлив, издалека доносился шум волн. Они всё повторяли и повторяли одно и то же — то, что твердят много миллионов лет подряд. Сон как будто подсказывал мне разгадку, казалось, я вот-вот пойму их язык. Волны произносят только два слова: первое слово набегает на берег и спешит к вам. Второе стремится обратно, унося то, что сказало первое… Да только напрасно я вслушивался — так ничего и не услышал, кроме невнятного бормотания.
А некоторое время спустя, — сказал Гектор, — у меня случился инфаркт. Боль накатила, как волна. Она была волной, а я — целым морем.
* * *На следующий день Гектор повез меня в Чирипиш, местечко в ста километрах к северу от Софии. Старенький «пежо», приписанный к министерству культуры, приехал за нами в отель «Балканы». В те времена (это был 1954 год) в Болгарии было мало машин. В основном старые колымаги, брошенные немцами.
— Ну, готовьтесь! — предупредил Гектор. — Это будет незабываемое путешествие!
Когда мы выехали за черту города, асфальтированное шоссе кончилось. Перед нами лежала проселочная дорога. Ехали мы быстро, старая машина скрипела и стонала, внутри пахло пережженным маслом. Мы с Гектором сидели съежившись на заднем сиденье, оглушенные лязгом и скрежетом.
* * *Вдруг мы остановились. Наступила тишина.
— Шина лопнула, — радостно сообщил Гектор.
Шофер, молодой болгарин в белой рубашке с широко распахнутым воротом, улыбнулся нам своей белозубой улыбкой.
— Идите пешком, — сказал он, — а я пока колесо починю.
— Понятно? — спросил Гектор. — Пошли! Через полчаса он нас догонит. Я вам гарантирую, что, пока мы доберемся до Чирипиша, таких проколов у нас будет по меньшей мере пять.
И мы побрели по тропинке, точно на загородной прогулке. После оглушительного рева мотора и запаха горелого масла это пасторальное безмолвие завораживало. Не слышно шума машин, даже вдалеке. И весь мир — как на ладони. Кругом поля, ивовые рощицы, пирамидальные тополя, плодородная, ухоженная земля. В полях, нацелив клюв в распаханную землю, неподвижно стоят аисты, множество аистов. Ждут, когда проклюнется свежая травка. Устав ждать, один из них делает несколько шагов вперед. Время от времени, будто играючи, они сгибают ногу коленкой назад. Потом замирают и снова ждут. Небо синеет. Воздух легок. Хочется петь. Ни ветерка. Запахи, обычно переносимые ветром, здесь вынуждены летать на собственных крыльях. Это крылья ангелов, а запах — аромат роз. Болгария — вообще страна роз. Мы недалеко от знаменитой розовой долины.[7]